ТЕАТР
Яна Жучкова

Что такое театр? Отдельный вид искусства? Не совсем так. Сложный организм? Скорее человек, личность, механизмом которого является сердце. А что заставляет это сердце стучать? Ведь оно очень сложно устроено как физически, так и психологически.
В театре важно все. Сцена - "пустой лист бумаги", который необходимо оживить фантазией. Режиссёр подаёт идею, пытается воплотить её на сцене. Но как же режиссёр может выразить свой взгляд на то или иное произведение без создания атмосферы, над которой работает художник, помогающий режиссёру подобрать нужное расположение декораций и придумать их дизайн, удивительно и тонко подходящий к выражению той, иной мысли. После того, как макет создан, стоит оживить сцену. Тут страницы любых книг, выбранных режиссёром, начинают проецировано оживать, сливаясь с мировоззрением режиссёра или, наоборот, оставаясь классически в согласии с автором самого произведения. Свет, декорации и прочие важные элементы в создании спектакля дают возможность сердцу работать именно физически.
В театре важно все. Сцена - "пустой лист бумаги", который необходимо оживить фантазией. Режиссёр подаёт идею, пытается воплотить её на сцене. Но как же режиссёр может выразить свой взгляд на то или иное произведение без создания атмосферы, над которой работает художник, помогающий режиссёру подобрать нужное расположение декораций и придумать их дизайн, удивительно и тонко подходящий к выражению той, иной мысли. После того, как макет создан, стоит оживить сцену. Тут страницы любых книг, выбранных режиссёром, начинают проецировано оживать, сливаясь с мировоззрением режиссёра или, наоборот, оставаясь классически в согласии с автором самого произведения. Свет, декорации и прочие важные элементы в создании спектакля дают возможность сердцу работать именно физически.
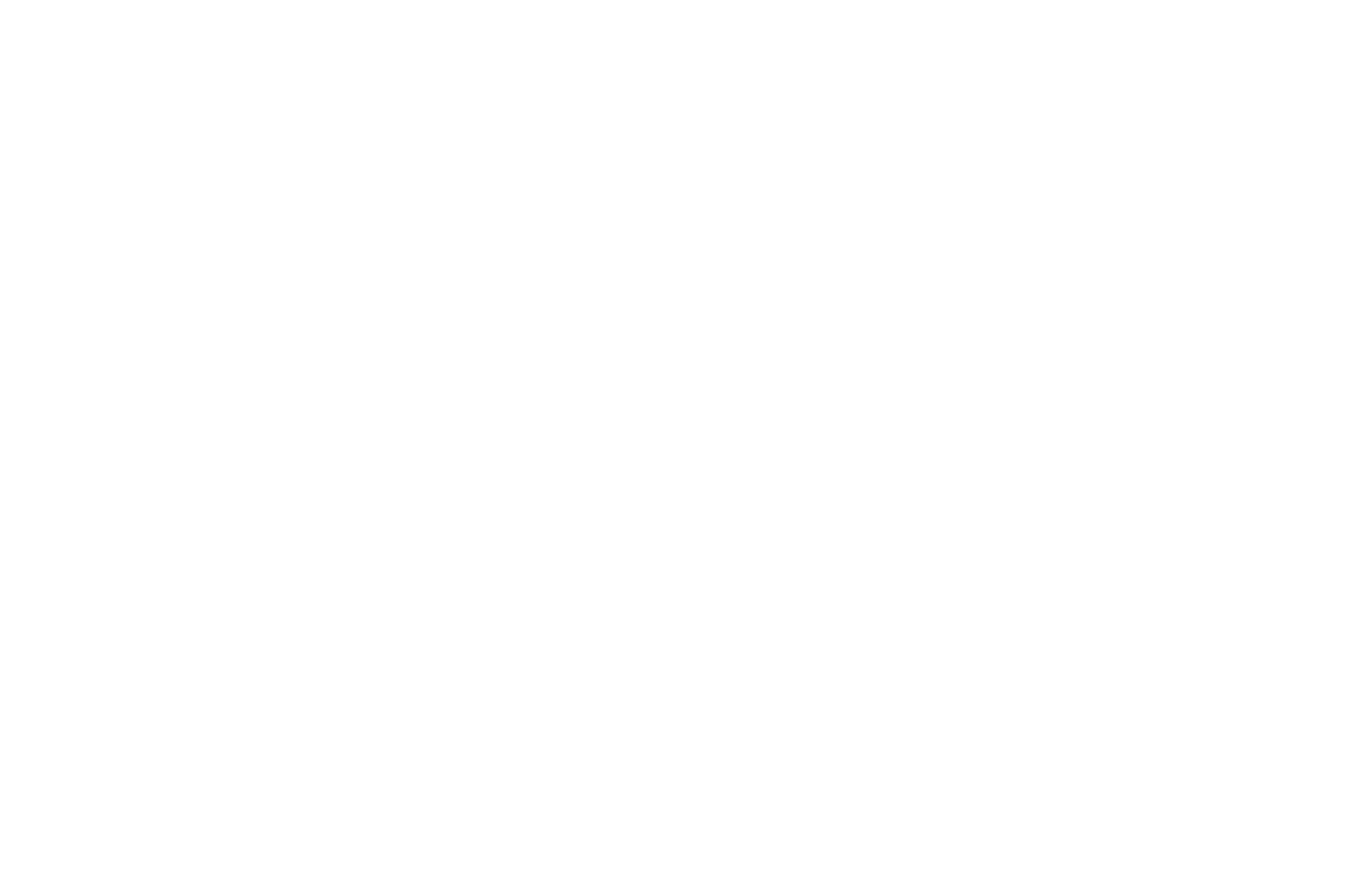
Остаётся наполнить это сердце чувствами. Этим занимаются актёры, выполняющие определенные эмиграции из реального мира в тот или иной образ, вектор которой подсказывает режиссёр. После понимания актёром направления выражения сущности героя он начинает работать самостоятельно, профессионально пытаясь наполнить образ качествами, которые строят этого героя спектакля, так гармонично вливающегося во всю атмосферу театральной постановки, имеющей тот или иной характер.
Остаётся одно. Спектакль — это мир, в котором уже есть постановщик, свето-режиссёр, актёры. Объем этому миру придаст музыка, которая ворвётся в строй спектакля и заставит каждого зрителя работать взглядом, мыслью, чувством. Она подключает зрительный зал, выводя его из реального мира и переносит в другой – трагический /смешной.
Остаётся одно. Спектакль — это мир, в котором уже есть постановщик, свето-режиссёр, актёры. Объем этому миру придаст музыка, которая ворвётся в строй спектакля и заставит каждого зрителя работать взглядом, мыслью, чувством. Она подключает зрительный зал, выводя его из реального мира и переносит в другой – трагический /смешной.
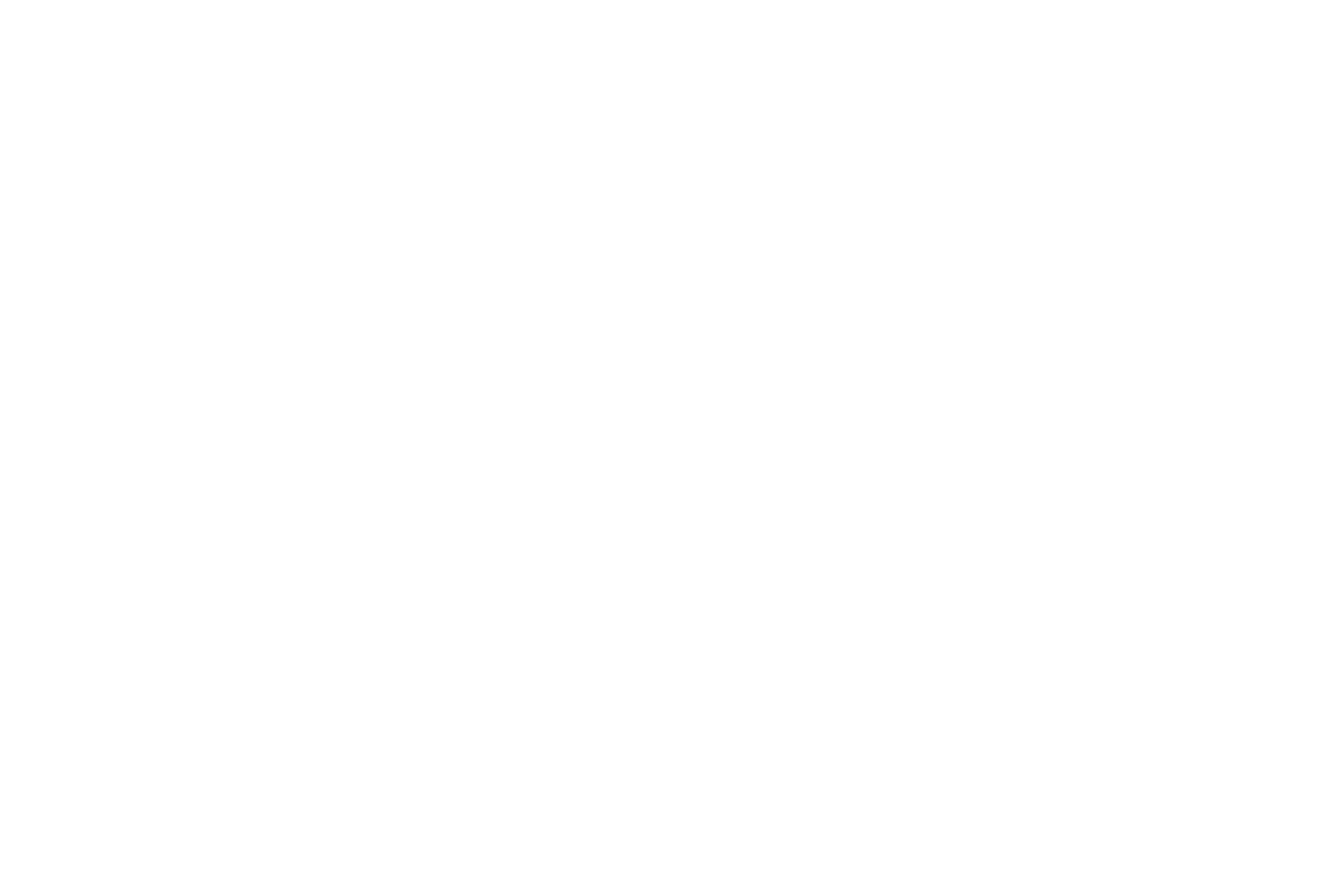
ТЕАТР - не просто искусство. Это средство искусства; инструмент, позволяющий выразить мнение режиссёра через текст великих классиков, фантастов, драматургов. Можно выражать мысли и эмоции через литературный фундамент или, наоборот, создавать самому что-то новое, которое уже изначально прорастает через платформу личного опыта режиссёра.
Всё это - сердце человека. Спектакль – готовый образ личности, наполненный органикой искусства, возможности которой оценивает зритель и идею которой разгадывает зрительный зал.
Всё это - сердце человека. Спектакль – готовый образ личности, наполненный органикой искусства, возможности которой оценивает зритель и идею которой разгадывает зрительный зал.
О комедии А.П. Чехова «Чайка»
Яна Жучкова
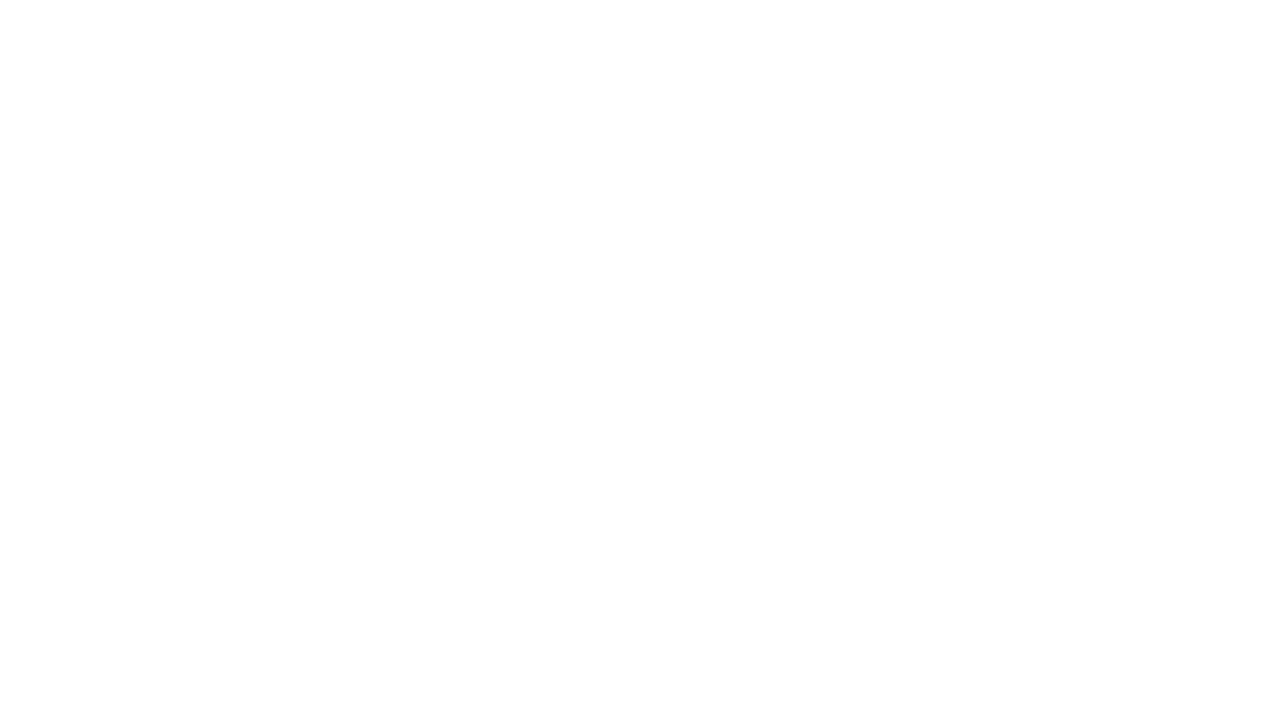
«Чайка» - комедия в четырёх действиях, написанная А.П. Чеховым в 1896 году. Это одно из самых загадочных и таинственных произведений писателя, суть которого не могут раскрыть и по сей день многие режиссёры, ставящие пьесу на сцене; сценаристы, актёры и литературоведы, по-разному интерпретирующие идею комедии. Чем же действительно интересна и непонятна «Чайка»?
Почему жанровое определение пьесы – не трагедия, трагикомедия или какой-либо другой литературный жанр, а именно комедия? Возможно, назвав так свою «Чайку», А.П. Чехов прежде всего хотел сконцентрировать внимание читателей на теме произведения, далее на проблеме и, как следствие – на самой идее. В чём тема комедии? На самом деле, тем рассматривается сразу несколько, так как А.П. Чехов создаёт много нестандартных, необычных и естественных, талантливых и бездарных образов героев. Более того, практически все персонажи различны по возрасту, и это тоже фактор того, что драматург, наделяя каждого героя непохожей индивидуальностью, пытается раскрыть новую тему. Некая тематика сливается воедино и создаёт общую картину того, о чём говорится в произведении.
Почему жанровое определение пьесы – не трагедия, трагикомедия или какой-либо другой литературный жанр, а именно комедия? Возможно, назвав так свою «Чайку», А.П. Чехов прежде всего хотел сконцентрировать внимание читателей на теме произведения, далее на проблеме и, как следствие – на самой идее. В чём тема комедии? На самом деле, тем рассматривается сразу несколько, так как А.П. Чехов создаёт много нестандартных, необычных и естественных, талантливых и бездарных образов героев. Более того, практически все персонажи различны по возрасту, и это тоже фактор того, что драматург, наделяя каждого героя непохожей индивидуальностью, пытается раскрыть новую тему. Некая тематика сливается воедино и создаёт общую картину того, о чём говорится в произведении.

Начиная читать «Чайку», мы часто сосредотачиваемся на том монологе, который так артистично произносит Нина Заречная в пьесе Константина Гавриловича Треплева. Монолог не однозначен. Нельзя сказать, что любой прочитавший пьесу молодого начинающего писателя отложит её и отзовется впоследствии о написанном автором так, словно о рассказах Тригорина. Нет. Этого не случится. Произведение Константина – главного героя - рождено из его души и рождено лишь только для того, чтобы удивлять и поражать неординарностью и нестандартностью идей, которые и стали основой пьесы, не доигранной Заречной. В монологе проглядывается что-то мистическое, а может порой и сюрреалистическое (направление, тогда еще не существовавшее. Зародилось во Франции только в начале 1920-х годов). Из этого мы узнаём только характер главного героя, его духовную составляющую. Чтобы это доказать я обращаюсь к реплике главного персонажа, произнесённой в споре с Заречной, которую он нежно любит: «Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах». Эта реплика свидетельствует о нестандартности мышления главного героя и о выражаемом им протесе обществу. Но нельзя разгадать на основе данного монолога, вышедшего из-под пера А.П. Чехова (формула пьеса в пьесе), тайну темы и идеи «Чайки». Это не тот элемент сюжета, на котором стоит читателю фокусировать своё внимание.
Читая чеховские пьесы, можно понять, что автор мыслит прежде всего символами. Повязка у Константина Гавриловича, которую так нежно сменяет Аркадина – символ любви и дружбы, воссоединение матери и сына; самый главный образ – чайка является символом смерти, разочарования, боли, неудавшейся жизни Заречной. Так и сам монолог в начале произведения – символ, во-первых, раскрывающий суть смысла жизни Треплева, во-вторых, – это приём, использованный в завязке произведения, с целью создания первого конфликта – конфликта Константина Гавриловича и его матери Ирины Николаевны Аркадины. Для доказательства этого факта я прибегну к использованию очень неоднозначной, но чрезвычайно важной реплике Аркадиной, которую блестяще произнесла актриса Ирина Муравьева, как раз именно с той интонацией, которая и служит предостережением начала возникновения непонимания между родителем и ребенком: Когда главный герой пытается погрузить зрителей в ту атмосферу, в которой будет исполнена пьеса (просит представить их, что они уснули), то его мать с насмешкой произносит следующую реплику: «Пусть. Мы спим». Эта насмешка бедной и недоумевающей Аркадины, которая не в состоянии твёрдо и ясно осознать то, что творится в голове у её сына. Следовательно, монолог – не тема, а то, что усугубляет конфликт, причём существовавший ещё до начала действия. В нём присутствуют одновременно и философские, и семейные, и социальные (конфликт поколений) элементы. Это важно понять, так как, если мы примем монолог Заречной не за приём, а за тему, то при постановке «Чайки» на сцене совершим роковую ошибку. Мы выведем под-тему за основную тему и найдём решения проблемы, которая ставится в комедии, придя ни к той идее произведения. Мы не разгадаем подтекст А.П. Чехова. Итак, одна из микротем – непонимание между сыном и матерью, выражающееся в конфликте. Следующая микротема – нереализованная, безответная любовь. Раскрывая её, А.П. Чехов задействует героиню Машу и доктора Дорна.
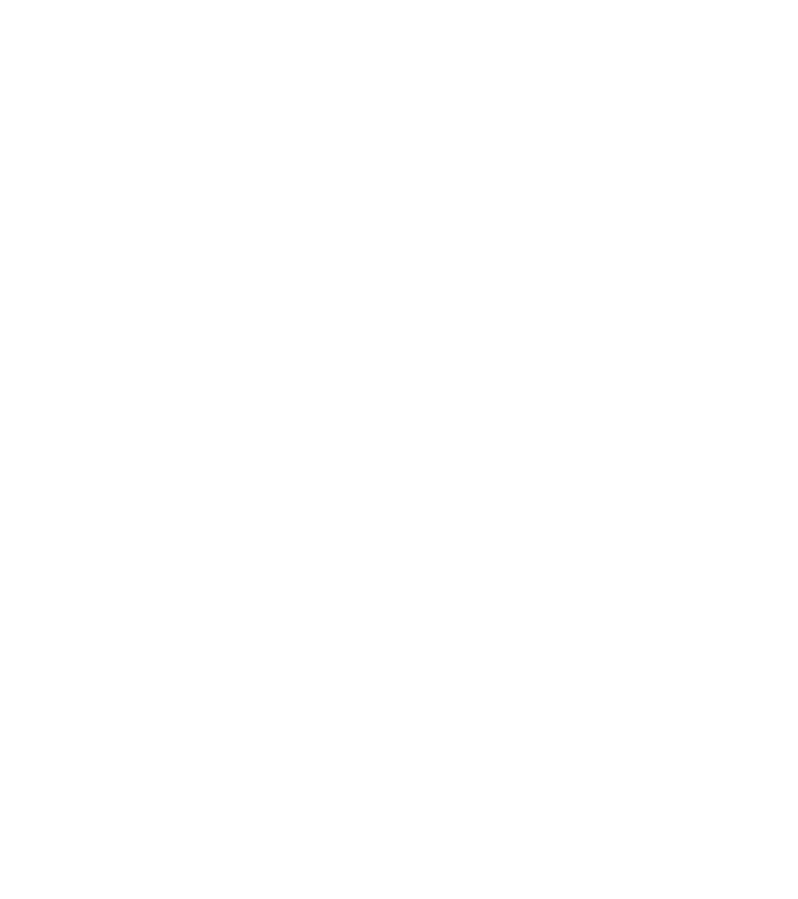
Она говорит ему о тайной любви к Константину Гавриловичу, на что тот отвечает: «Как все нервны!» Эта важная реплика, которая, во-первых, определяет вторую микротему, а, во-вторых, даёт нам понять то, что доктор – единственный рационально-мыслящий и адекватно-оценивающий всю ситуацию в пьесе человек. Он не влюбляется, не страдает. Он не чувствует. Эта функция наблюдателя, как мне кажется, вложена в него специально с целью дать ему роль философа. Именно Дорн, как главный надзиратель, в конце сообщает о самоубийстве Треплева. Важно отметить, что он делает это спокойно, безэмоционально. Об отсутствии излишней чувствительности свидетельствуют даже те капли валерьяны, которые он всюду и всем предлагает (схема 3).
Ещё одна под-тема, раскрытая в конце произведения желанием Сорина. Герой хочет, чтобы его племянник написал произведение под названием «Человек, который хотел». Название подразумевает под собой не реализовавшиеся мечты, жизнь несостоявшейся личности, коим Сорин считает себя. Но тут его ободряет доктор, снова адекватно-оценивающий ситуацию.
Наконец, мы подошли к главной теме, объявленной Чеховым во втором действии репликой Аркадиной: «…Что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют». Эта реплика указывает на тему произведения. Тема – скука, безделье, откуда произрастают все остальные под-темы (микротемы). Герои даже не могут выбраться с этой дачи. А.П. Чехов акцентирует на этом внимание, разыгрывая следующую сцену: требуя лошадей, Ирина Николаевна Аркадина в истерике понимает, что ей их из вредности не дадут. Отъезд откладывается.
Далее по композиции в монологе Тригорина и Нины затронуто ещё несколько всем очевидных под-тем. Например: писатель не гений, а человек; все люди разные; мимолётное увлечение.
Ещё одна под-тема, раскрытая в конце произведения желанием Сорина. Герой хочет, чтобы его племянник написал произведение под названием «Человек, который хотел». Название подразумевает под собой не реализовавшиеся мечты, жизнь несостоявшейся личности, коим Сорин считает себя. Но тут его ободряет доктор, снова адекватно-оценивающий ситуацию.
Наконец, мы подошли к главной теме, объявленной Чеховым во втором действии репликой Аркадиной: «…Что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют». Эта реплика указывает на тему произведения. Тема – скука, безделье, откуда произрастают все остальные под-темы (микротемы). Герои даже не могут выбраться с этой дачи. А.П. Чехов акцентирует на этом внимание, разыгрывая следующую сцену: требуя лошадей, Ирина Николаевна Аркадина в истерике понимает, что ей их из вредности не дадут. Отъезд откладывается.
Далее по композиции в монологе Тригорина и Нины затронуто ещё несколько всем очевидных под-тем. Например: писатель не гений, а человек; все люди разные; мимолётное увлечение.
Последняя микротема приведет к трагической развязке несчастной любви Треплева. Ведь Нина предпочла известного успешного писателя, а не простого неудачника. Мимолётность увлечения Бориса Алексеевича доказывается в завершающем действии, где Константин подробно излагает историю о том, как сложилась несчастная судьба Нины. Это тоже чрезвычайно важный элемент в композиции пьесы, так как через этот рассказ Чеховым использован особый приём – слияние образа чайки, как птицы, убитой Треплевым, и несчастной трагической судьбы Нины воедино. Эту сумму следует приравнять к печальному исходу жизни героини (схема 4). Треплев – лишь инструмент, который когда-то мог предотвратить такой ужасный перелом в жизни возлюбленной. Он этого не сделал, так как не имел влияние на Нину. Потеряв надежду на писательство, понимание со стороны близких и любовь, герой сознательно совершает самоубийство. В пьесе задействованы «неполные» любовные конфликты, так как в них отсутствует полная любовь, а существуют в паре лишь те, кто любит и те, кто не любит. Треплев любит Заречную, но она не любит его; Маша без ума от Константина, но он к ней холоден; Тригорин – последняя надежда Аркадиной, если бы тот не был так равнодушен к ней.

Проблема в «Чайке» и вопрос, которым задаётся писатель, очевиден: как вырваться из этой череды одинаковых дней? Ответ, то есть идея произведения: умереть или жить, смирившись с этой скукой». Каждый из героев выбирает свой путь. Именно эта формула применима для персонажей всех чеховских пьес. Его герои неподвижны. Они не изменяют свою жизнь, наивно надеясь на высшие силы природы, Бога. Они ничего не хотят и ни о чём не мечтают. (схема 5).
Итак, мы разобрали основную тему произведения и её под-темы. Все совершается из-за скуки. А.П. Чехов дал именно такое жанровое определение своему произведению, разработав неплохие, переплетающиеся друг с другом сюжеты. Пьеса гениальна уже только потому, что никто до Чехова так мастерски не описывал скуку, а уж тем более не воплощал сюжет на сцене, пытаясь заинтересовать каждого зрителя. Многие литературоведы полагают, что как раз с чеховской «Чайки» начинается театр XX-ого века. Ведь главной задачей сцены является заставить людей задуматься над смыслом того, что поставлено и написано. В пьесах А.П. Чехова мало динамики, действия, но они заставляют читателя задаваться вопросами о смысле жизни, о вечных и ложных жизненных ценностях. Казалось бы, это с этой задачей прекрасно, внедряя сюжет в свои произведения, справлялись драматурги и до А.П. Чехова. Да. Но именно его драматургия интересна своей неподвижностью, отсутствием развития и тем, как эти факторы заставляют зрителей задуматься над теми же вопросами, над которыми они задумывались, изучая классическую драматургию до XX века.
Итак, мы разобрали основную тему произведения и её под-темы. Все совершается из-за скуки. А.П. Чехов дал именно такое жанровое определение своему произведению, разработав неплохие, переплетающиеся друг с другом сюжеты. Пьеса гениальна уже только потому, что никто до Чехова так мастерски не описывал скуку, а уж тем более не воплощал сюжет на сцене, пытаясь заинтересовать каждого зрителя. Многие литературоведы полагают, что как раз с чеховской «Чайки» начинается театр XX-ого века. Ведь главной задачей сцены является заставить людей задуматься над смыслом того, что поставлено и написано. В пьесах А.П. Чехова мало динамики, действия, но они заставляют читателя задаваться вопросами о смысле жизни, о вечных и ложных жизненных ценностях. Казалось бы, это с этой задачей прекрасно, внедряя сюжет в свои произведения, справлялись драматурги и до А.П. Чехова. Да. Но именно его драматургия интересна своей неподвижностью, отсутствием развития и тем, как эти факторы заставляют зрителей задуматься над теми же вопросами, над которыми они задумывались, изучая классическую драматургию до XX века.
